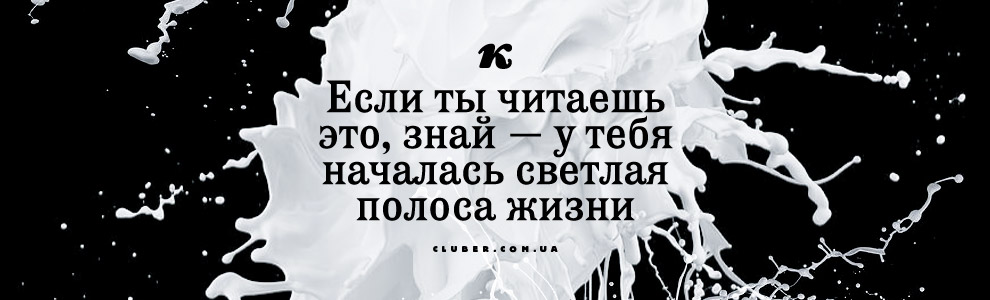“Что будет холоднее – физический труп меня или моя эмоциональная холодность? “
Это был последний аргумент в ее голове, чтобы оставаться презренно спокойной, покрытой изморозью холода пустоты. Той безмерной, обволакивающей и растворяющей внутри пустоты, которая нередко возникала почему-то именно вечером или ночью и была очень знакома. Так в детстве были пусты глаза собственной ее матери, когда будучи ребенком, пытаясь не заслужить, а всего лишь маленько получить тепла, она рисовала черной гуашью деревья тонкой кисточкой и галочками птиц на голубом фоне альбомного листов, заранее подготовленных воспитателями.
Восторженного блеска глаз матери не было, ее мысли всегда оказывались где-то не здесь и далеко не сейчас.
“Смотри как красиво,”- последняя попытка привлечь мать.
“И что такого? Одевайся быстрее, нам еще забирать твоего младшего брата”.
и холод заливался с ног, иногда задерживаясь на коленях и на животе. Как холодная вода в реке – она потом сравнивала этот холод. Очень похоже. И также опускаешься медленно в реку холода. Легкая дрожь еще дает знать что тело живое – но вот мгновение и она уже замерзла. И стала одновременно согрета привичным холодом. А потом когда кто-то бросал взгляд отчуждения, неудачную шутку или колкое замечание, знакомый холод снова заполнял тело. Иногда она сама умела вызвать этот анастетик и становилось не больно, правда иногда могла пойти судорога по ногам, но было знакомо холодно.
И всеобъемлющая жадность до недоступного и такого близкого и одновременно далекого при взгляде на обнимающую мать ребенка – другой девочки из группы и чувство вины за фантазию таких же встреч.
Чувство вины осталось тонким сланцевым пластом в подсознании и лишь слегка прорывалось когда за принятие вдруг не надо было ничем платить и это было неожиданно искренне и тепло.
И дома ждал холодный чайник, холодные тапочки. А потом она заметила – что тапочки могут греть, если их положить на батарею перед тем как уходить из дому. Но мама сказала, что это не пойдет. И вообще это не эстетично.
Еще подростая, она научилась греться сигаретой, пока делаешь затяжку дыма.
А еще ей стало легко, когда брали кровь на анализ. Если хорошенько подумать, что тело замерзло, то иголка совсем не чувствовалась. Зато какие теплые глаза у медсестры и докторов. Так она научилась болеть, когда хотелось тепла. Приходилось платить частями в теле, но она не могла остановиться.
Она вернулась к своим размышлениям про сравнение холода тела и души, но пустота, анестезия для жизни уже покрывала ее всю. Замерзали кончики пальцев на ногах, потом колени, бедра и вот уже живот – пустой, там пусто, холодно и ничего нет, а значит не больно и можно жить. Жить как обычно – оболочкой, высказывая необходимое к месту и времени и чутко контролируя реакцию окружающих.
И собственная дочь вот она бежит и несет очередную каляку на листе и просит, просит. Чего она просит, чего ей надо? Ну и как мне реагировать, – вопросы как топоры рубили ее оболочку, но чем больше она плавала в них, тем быстрее протекал миг и дочь видела тот же пустой, растерянный взгляд стеклянных глаз собственной матери. И сама растерялась – а вообще надо ли? – а вообще это разве и правда интересно, что Я там накалякала? и пласт вины уже переходит к дочери.
Женщина, которую не любили, которую не любят, кроме выживательной оболочки и холодной анестезии холода в душе с пластом вины передает дочери этот порочно замкнутый круг спирали поколений как неудачный способ попытки начать жить и чувствовать.
Они – первые бегают по психоаналитикам с запросами неприспособленности своих дочерей, если такие найдутся, по-большинству же так и оставаясь наедине со своей пустотой и холодом в душе.
Автор — Светлана Ханова